Богослужение живое и мёртвое

— Предполагается, что перевод богослужебных текстов — дело сложнейшее и нуждается в собрании богословов, литургистов, учёных-филологов. А раз так, то его надо отложить, пока такая группа переводчиков не соберётся.
— На мой взгляд, вопрос перевода богослужения — не строго научный, он более комплексный и сложный. Тем не менее, перевод — это донесение смысла, а вопрос о смысле — уже и экклезиологический, и христианско-антропологический, то есть может быть поставлен в богословский и научный контекст. Конечно, больше богословский и философский, потому что, исповедуя веру в Святую Троицу — в Отца, Сына и Святого Духа, мы не просто утверждаем, что Один равен Трём и Три равно Одному, а ещё и обнаруживаем определённые взаимоотношения. Мы создаём некий образ внутрибожественной жизни, где есть Отец, Его Дух и Его Слово: Его Дух как дыхание и Его Слово — Божественный Логос. Дух мы связываем с даром духовности, к которому приобщён каждый человек, покуда он человек, а Слово связано с логоистичностью, то есть явлением смысла. Смысл же связан не просто с рацио, с умом человеческим, а с разумом, который и улавливает эти смыслы или даже их производит, который тоже может быть соборным и личностным, или несоборным и неличностным.
Церкви нужен такой перевод богослужения, который передавал бы содержащиеся в нём смыслы духовного откровения — все смыслы, касаются ли они христианской жизни, или Священного писания, или писаний отцов, или молитв, или каких-то знаков и действий. Но вот эта задача выявления смысла как будто оказалась забытой. Я не исключаю, что это связано и с тем, что церковнославянский язык в определённое время как бы закрылся, перестал быть живым. Люди, утверждающие, что это живой язык, боюсь, очень сильно ошибаются. Когда-то он был более или менее живым, хотя проблемы с ним чувствовали русские люди давно, ещё в домонгольское время. Но на сегодняшний день это мёртвый язык.
Главный критерий перевода — это именно уловление и передача духовных смыслов в их целостности и полноте. Не просто терминов, не просто формул, а смыслов, которые иногда передаются с помощью символов, хотя и совсем не обязательно так. Смысл — один из даров духа, как и дар слова, а значит, как и всякий духовный дар — это дар божественный и человеческий. Поэтому вопрос перевода — вопрос богословский, антропологический и экклезиологический. Ясность очень важна, но она не достигается в переводе богослужения только решением вопроса рационального понимания текста. Поэтому, когда люди представляют себе богослужебный перевод как, скажем, перевод других древних текстов или даже Писания, то это очень убогое представление, очень недостаточное. Вопрос перевода богослужения — это вопрос о том, способно наше церковное предание жить дальше или может только оглядываться назад, на что-то прежде бывшее.
Прошлое требует рассуждения: что было в истории хорошо, что не очень. Церковное предание всегда развивалось, раскрывалось и продолжает раскрываться, хотя канон, например, книг Священного писания, Ветхого и Нового Заветов, закрыт. Но предание никто не закрывал и закрыть не может — это неостановимое веяние Духа, Его живая жизнь в Церкви. Но не только Духа — есть живая жизнь смыслов, вот этого действия Слова. Христос действует как божественное Слово и, что ещё важнее, как Слово богочеловеческое. И мы должны уважать и божественную природу Слова, и человеческую природу Слова, так же как мы почитаем Христа и как совершенного Бога, и как совершенного Человека. В этом, если угодно, внутренняя духовная культура христианина. И отсутствие этой культуры играет очень негативную роль в современной церковной жизни и сильно влияет на духовный уровень жизни христиан. Мы потому и сталкиваемся с фундаментализмом, невежеством, мракобесием, что часто люди не понимают этих вещей, они не воспринимают действие Духа Божьего в Церкви как непрерывное обновление жизни, обновление Церкви. Они не воспринимают действие Слова Божьего, Христа как такую же возможность явления богочеловеческой жизни, не воспринимают Его как возможность развития. Им кажется, что если догматы утверждены и незыблемы, если Священное писание закрыто, то значит, всё закрыто. Отсюда обрядоверие и мистическая суеверная боязнь хоть что-то поменять в церкви. Это именно суеверие — тщетная вера. Но, тем не менее, это вера. И поэтому так трудно бороться с этими современными сектантскими тенденциями. Люди, приверженные им, вроде бы выступают за чистоту веры, за сохранение полноты православного учения и при этом часто делают это совершенно не по-христиански, повреждая как раз откровение Духа и Слова, закрывая его, не давая возможности Богу действовать в церкви, в людях, в себе самих, в конце концов.
Вот что прежде всего надо иметь в виду, когда мы говорим о переводах. Потому что перевод — это в каком-то смысле императив, то, что непрерывно должно совершаться в Церкви, потому что жизнь идёт вперёд, и церковь здесь ни в коем случае не должна отставать и отслаиваться. Древняя церковь худо-бедно с этим справлялась. Но, чем больше веков христианской истории проходило, тем больше было тенденций законнического отношения — к жизни, к правилам, к Преданию, к Писанию… Не просто законного, а законнического, что не одно и то же. Законничество — это фарисейство. И, фундаментализм как безапелляционное закрепление во всём старых форм, всякий отказ от обновления смысла, — это фарисейство. И те люди, которые сейчас выступают, скажем, против переводов на современный литургический русский язык, не понимают, что они фарисеи, что они фундаменталисты, что они гасители духа. Хотя в Писании говорится: «берегитесь закваски фарисейской» (Мф 16:6) и «духа не угашайте, пророчества не уничижайте, всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес 5:19-21). Но испытывать надо открытым сердцем, имея духовный дар и способность испытывать, а не так, что кому-то что-то показалось — и значит, это истина в последней инстанции.
Вопрос перевода — принципиальный. Когда говорят: «а может, никто и не придёт в церковь, если вы всё переведёте», то не понимают, что перевод — только во вторую или в третью очередь вопрос миссионерский и катехизический. Да, это нужно и для миссии, и для катехизации, но в первую очередь это нужно самой церкви, чтобы она была собою.

— С чем связано такое упорное сопротивление делу перевода и даже самой этой идее?
— У одних просто нет соответствующего опыта, или что-то перекрыло им путь к нему. Хотя есть и просто провокаторы, то есть люди, которые реально не принадлежат к Церкви и о ней не заботятся, её не любят и преследуют какие-то свои корыстные цели. Есть и несчастные жертвы очень распространённого в церкви представления о том, что всякое выяснение смысла — это рационализм, поэтому протестантизм и так далее. Но будем всё-таки помнить, и что протестантизм тоже может быть разным, хотя в нём всегда хватало рационализма, и что именно православие всегда позиционировало себя как возможность жить в свободе духа и в любви к Богу и ближнему, которые не сводятся к рацио, но и не отвергают этого начала. Этим мы должны отличаться от католиков и протестантов, если хотим быть для них вдохновением, и радостью, и примером. А если мы просто хотим других бить по голове какими-то формулами, так они точно так же могут легко это делать по отношению к нам, как в истории нередко и бывало.
Вопрос перевода — это не просто вопрос красоты богослужебного языка. Мы ценим красоту, но красота не высшее благо в Церкви. Высшее благо в Церкви — Дух и Смысл, к полноте которых мы должны стремиться в своей жизни и в истории, потому что это делает церковь собою, соотносит её с откровением Небесного Царства, влечёт нас к Царству Небесному и раскрывает дары Царства уже здесь, на земле, в ту меру, в какую это возможно в истории.
Я благодарю Бога, что мой опыт переводов с самого начала был связан исключительно с потребностями церкви, поэтому я никогда ни у кого не спрашивал никаких благословений. Я просто знал, что если, например, мы занимаемся катехизацией, то мы должны отвечать за людей, которые приходят в Церковь. Для этого они должны что-то понимать и сами тоже нести ответственность за свою веру. Но чтобы научить их ответственной жизни в свободе, нам надо до них донести этот дар Духа и дар Смысла. Они должны впитать в себя живое Предание Церкви, жить им, углубляясь в познании Бога, и тем самым в познании Христа, и Духа Святого, и Царства Божьего, а уже дальше — и самих себя, и жизни, и мира. Поэтому безусловно нужно, чтобы для оглашаемых богослужение было понятно. Нельзя людей вести в Церковь и ожидать от них полноценного участия не только в молитве, но вообще во всех сторонах церковной жизни, если они не будут понимать того, что в церкви происходит. Сама катехизация — введение в живое Предание, в жизнь Духа — есть прояснение смыслов для людей, желающих стать христианами, членами Церкви. Как же можно противостоять выявлению ясности богослужения, это противоречит задачам и целям самой христианской жизни!
Церковь должна была бы сказать прямо и открыто, что в истории были с этим большие трудности. Многовековой константиновский период, когда церковь составляла разные альянсы с государством и часто в ущерб своему евангельскому призванию, не был самым благоприятным для неё. В XX веке это привело ко многим катастрофам, но и в прежние века константиновской эпохи от имени Церкви говорилось и делалось много не евангельского, а значит и антицерковного. Мы должны понимать, что нельзя вернуться ни ко временам первых апостолов, ни в доконстантиновское время. Так же как мы не можем механически продолжать, скажем, церковную жизнь в формах XIX или XX века. Ушли эти века. Они оставили что-то для нас важное в своём предании и нас обогатили, но оставили и проблемы, иногда трагические, которые нам предстоит решать.
Из этого во многом и должна исходить сама методика перевода. Делая перевод, надо научиться сопереживать тем, кто всё это создавал, понимать, как та или иная молитва родилась в церкви: в какой период её истории, на какие основные потребности это опиралось, что сейчас актуально из этого, что нет. Мы должны спокойно относиться к тому, что требуется что-то сокращать, что-то передавать в архив церковной памяти, а что-то, напротив, оттуда извлекать или переосмысливать, потому что иногда терялось лучшее, а на это место становилось не лучшее или терялся смысл из-за неправильности перевода.
Яркий пример — литургический возглас после анафоры «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати». Как можно было так перевести? По-гречески там всё правильно, по-гречески «призывать», «именовать», «называть» — одно и то же слово. Но почему-то в славянском варианте было выбрано «призывать Тебя, Отца» — и это сразу после анафоры, которая вся обращена к Отцу, где Его столько раз призывали! Зачем же ещё раз призывать? Это нонсенс, это неоправданно разделяет литургию на разные части. По смыслу здесь подходит «именовать Тебя, Небесного Бога, Отцом». Мы имеем полное право после анафоры просить Бога удостоить нас именовать Его Отцом, то есть чувствовать себя Его детьми, потому что мы только что совершили таинство благодарения Отцу за Сына во Святом Духе, за Церковь, и за весь мир, и за откровение Царства.
Такова и инородная вставка тропаря Третьего часа в эпиклесисе. В конце советского времени в одном патриархийном издании уже печатали эти тропари в квадратных скобках петитом, имея в виду, что это историческое наслоение, разрушающее логику богослужения.
Или, например, в литургии Василия Великого — вставка в самом важном моменте анафоры фразы «преложив Духом Твоим Святым» из литургии Иоанна Златоуста. Она и исторически совершенно неоправданна, и разрушает синтаксис исходного текста. Единственная цель этой вставки — чтобы две анафоры были больше похожи друг на друга. Столько было написано и сказано об этом литургистами — но повсеместно ничего не исправляется до сих пор.

— Почему на всё это нет никакой реакции в Русской православной церкви?
— Она есть среди образованных людей, но это почти не имеет последствий, потому что таких людей слишком мало. Их мнение практически не оказывает влияния на инертное отношение к старому непонятному неточно переведённому тексту. Чтобы эту инерцию преодолевать, церкви нужна сила, которая сейчас оказывается не на стороне образованных просвещённых духовных людей, а на стороне как раз людей непросвещённых и недуховных.
Фундаменталистские мракобесные тенденции последних десятилетий привели к тому, что достижения литургической науки, в том числе дореволюционной, не говоря уже о современной, воспринимаются как что-то не бывшее. То же произошло и с отношением к переводу богослужения на русский язык. Ещё Поместный собор высказывался в пользу перевода, хотя он и не мог сделать всего, что хотел и должен был сделать. Но и того, что было принято на Соборе, вполне достаточно, чтобы у каждого архиерея и у каждого прихода были права решать эти вопросы, о чём, между прочим, говорил 20 февраля 2020 года в Твери митрополит Савва (Михеев) на встрече с «прихожанами». На каком языке служить: на русском, украинском, белорусском, славянском или ещё на каком-то — пожалуйста, выбирайте сами. Но не по прихоти какой-то маленькой кучки людей — крикунов, мракобесов, а всё-таки соборно.
Это непросто: чтобы принять соборное решение, нужно, чтобы церковь была собрана, чтобы она жила на какой-то глубине, существовала как община, способная нести ответственность за богослужение и церковную жизнь, а не просто как приход: захотел пришёл, захотел ушёл. Именно потому что общины в нашей церкви очень редки, сейчас так трудно решить вопрос о языке на уровне прихода. Когда кто-то выступает и говорит: «Я прихожанин этого храма, я это хочу, а это не хочу», — сначала докажи, что ты прихожанин этого храма и обоснуй свою позицию не некоей прихотью, а церковной традицией и целесообразностью. В Церкви должна быть свобода и личностность, но должен быть и принцип соборности, который как раз конституирует Церковь как таковую и не даёт ей выродиться в коллектив.
— Открывали вы для себя в переводе какие-то новые смыслы, которые обогащали не только богословское знание, но и ваш опыт веры?
— Я скажу о двух принципиально важных вещах, сквозных для нашего богослужения: к Кому обращена церковная молитва и какое действие за ней должно в церкви следовать. У меня просто сил не хватает на всё, но мне хотелось бы сделать так, чтобы каждая молитва имела смысловое надписание, как бы заголовок, чтобы люди сразу понимали, о чём молятся. Часто этого нет и в помине, а коли они не понимают, то значит и молитва оказывается бездейственной, пустым словоизвержением. И должно быть ясно, к кому обращена данная молитва: к Отцу, ко Святой Троице, ко Христу, к Духу Святому, к Богоматери. К святым может быть обращена молитва? Может. Но надо понимать, что любая молитва в конце концов восходит к Отцу. Любая! Когда мы обращаемся к святым и Богоматери — мы их просим ходатайствовать перед Христом, чтобы Христос ходатайствовал за нас перед Отцом. Вот что важно — не только Богоматерь и святые, но даже когда мы обращаемся ко Христу и к Духу Святому, мы их называем ходатаями. А перед кем ходатаи-то? Перед Отцом. Это центральный вопрос нашей веры в единого Бога — мы прежде всего поклоняемся Богу Отцу. Да, через Христа! Да, во Святом Духе! Да, в Церкви! А значит, в единстве с Божьей Матерью, со святыми и со всем Божьим миром. Вот что мне открылось и было для меня просто потрясением. Потому что есть такие церковные тексты, где всё перепутано, где обращение молитвы относится к одному из лиц Святой Троицы, а возглас — уже к другому. Всё плывёт, если молитва составная, эклектичная: одна её часть может быть древняя, и там обращение к Отцу, но в той же молитве может находиться и обращение ко Христу или в финале унифицированный возглас, обращённый к Троице. Такие случаи есть, например, в молитве освящения воды при крещении или на Богоявление. Прояснение этих вопросов необходимо при переводе. Переводчик должен эти вещи чувствовать, понимать. Он не может просто механически переводить, тем более, что есть ещё много исторических ошибок и просто неправильных переводов.
— Неправильно понятых переводчиками мест оригинала?
— Авторы переводов, которыми мы пользуемся в церкви, были разной квалификации и разных дарований. Далеко не все из них были гении, и даже далеко не все, простите, были компетентные люди. Есть довольно странные переводы, где видно, что сам переводчик не справлялся со смыслом оригинального текста, не понимал его.
— Слова перевёл, а смысла не перевёл?
— Иногда и слова неправильно переведены. Одно дело перевести «призывать Тебя, Отца» или «именовать Тебя Отцом» — чисто филологически всё-таки допустимы оба варианта, какое-то слово можно перевести так и этак — и уже нам выбирать нужное значение по контексту. А другое дело — когда сама структура предложения неправильно понята, или переводили чисто механически и натыкались на всякого рода идиомы, какие-то устойчивые выражения, которые надо было знать, как переводить. Без этого получается просто абракадабра. Когда мы в нашей переводческой группе натыкались на такие случаи, а их очень много, наши филологи-классики сразу говорили, что здесь сам славянский текст неверный, не распознаны идиомы и сложные лексические и синтаксические формы.
Ещё важно сказать, что перевод должен всегда обновляться. И выбирать при обновлении нужно не самый поэтичный перевод, а всё же тот, который лучше раскрывает смысл оригинала. К сожалению, часто те, кто стремится за красотой формы, очень далеко отходят от смысла. А те, кто очень следит за смыслом оригинала, часто совершенно теряют чувство красоты слова. Потому иногда и нравится людям церковнославянский перевод, что он часто буквальный и с этой точки зрения как бы правильный. Для подавляющего большинства звучит это довольно красиво, но всё равно остаётся непонятным и неосмысленным. Многим ли известно, что синтаксис в русском и греческом устроен различно: у нас главное смысловое слово стоит в конце фразы, а у греков — в начале? И буквальный перевод обычно сохраняет синтаксис оригинала, что не может каждый раз не сбивать нас, если, конечно, нам важен смысл молитвы, а не только её звучание.
Сейчас я делаю новую редакцию перевода Великого покаянного канона святого Андрея Критского. Когда переводишь первый раз, прежде всего смотришь за смыслом, но иногда это не в пользу стиля, красоты слова. И через два года после создания первого варианта перевода, я увидел, что в некоторых местах есть неточности в отношении смысла и есть упущения с точки зрения формы. Перечитывая сейчас Великий покаянный канон, я увидел, что он необыкновенно прост. И именно этой своей простотой и сжатостью он удивительно красив. Никогда нельзя делать просто толковательный перевод, экзегетический, когда ты добавляешь какие-то слова, связанные с твоим осмыслением. Если тебе не совсем ясен смысл оригинала, ты что-то добавляешь, чтобы его прояснить. Иногда это искажает, а во многих случаях даже меняет смысл. Не всегда это однозначно плохо, глупо или неправильно. Но автор-то имел в виду немножко другое, делал другие акценты и облекал это в очень лаконичную, упругую и потому очень энергичную форму. Этим меня поразил канон Андрея Критского – автор умудряется в кратких формах создать очень ёмкий, выпуклый и целостный образ, хотя не всегда сразу понятный рационально. Он действительно требует толкования, даже если обращается к каким-то известным ветхозаветным или новозаветным сюжетам. Понять и истолковать их можно немножко по-разному. Поэтому я сейчас максимально убирал все те толковательные слова, которые допускал в предыдущей версии, и старался прийти снова к этой, может быть, немножко сокровенной, не всегда ясной форме, которая побуждает к размышлению.
— Такая лаконичность обращает тебя к собственному опыту веры, жизни и рефлексии над этим?
— Вот именно! Включение каждого в этот процесс и делает Канон великим — не только по своему объёму, но и великим произведением христианской культуры и искусства.
— То есть эти качества раскрываются при адекватном переводе, и тогда молитву можно совершать соборно и соборно пережить?
— Да, иначе он воспринимается индивидуалистически. Этот текст удивителен: он обращён вроде бы от имени отдельного человека к своей душе, но благодаря тому, что в людях могут оживать разные пласты духовного опыта, и в этой молитве включаются как бы разные регистры.
Потому и важно, чтобы было много переводов, чтобы можно было почитать, сравнить, оценить. Но если в церкви захотят выбрать лучший вариант перевода для всех, то здесь начнутся трудности. Иерархия, которая хочет делать это от своего имени, чаще всего совершенно не готова оценивать переводы. То же касается многих наших так называемых богословов и литургистов, часто полуграмотных, не знающих всерьёз ни литургической, ни переводческой традиции, но чересчур уверенных в себе. Кому нужна такая рецепция?

— Как же церковно выявить лучший перевод или определить, что тот или иной перевод не годится?
— Пока понятно лишь, что эта оценочная, рецептивная функция ещё должна созреть в церкви и найти адекватные формы воплощения. Для меня, например, принципиально читать и переживать новый перевод молитвы не одному, а в церковном собрании. Когда я так читаю свои переводы, я стараюсь услышать их ушами всех присутствующих — изнутри собрания, и — уж не знаю, печёнкой или даже спиной — я чувствую реакцию слушателей: где люди заворожены, где они действительно молятся и включены полностью, а где начинают отвлекаться, присутствуют как бы на фоне молитвы, потому что текст им не очень приятен или не очень понятен. Плюс у меня самого возникают в это время вопросы.
Мне хотелось бы привести ещё один пример церковнославянского литургического перевода, который всегда вызывал во мне неудовлетворённость. Я имею в виду начало — вступительные возгласы анафоры литургии святого Иоанна Златоуста, хотя это есть не только в ней.
— Преданафоральный диалог?
— Да. Дьякон говорит: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити». Народ, то бишь хор, который заменяет народ, отвечает: «Милость мира, жертву хваления». Кажется, чего тут особенного? Всё более или менее понятно. «Добре» — это, с одной стороны, прямо, а с другой стороны, строго. Вопрос только, какое слово лучше употребить.
— Прямо в смысле выпрямьтесь, да?
— Да, но здесь не скажешь «выпрямьтесь», тем более «встаньте», ведь вроде бы не сидели. Это, скорее, призыв к вниманию и внутренней строгости, бодрствованию, а не к выпрямлению тела. «Станем строго» — это нам предложил Сергей Сергеевич Аверинцев, и после некоторых дискуссий я с этим согласился. Получился хороший перевод дьяконского первого возгласа: «Станем строго. Станем благоговейно. Будем со вниманием святое возношение в мире приносить». А дальше вроде бы всем знакомая фраза: «Милость мира, жертву хваления». Вроде все слова понятны: «милость», «мир», «жертва», «хваление». Я думаю, нетрудно догадаться, что «хваление» здесь — это хвала, то есть приносить будем жертву хвалы, это вроде понятно. Но собрать из понятных слов смысловую фразу оказывается непросто. Смущает уже «милость мира». Иногда пытаются сказать, что близкое выражение есть в Ветхом завете. Может быть, оттуда и взято? Что же такое «милость мира»? Неясно. Я иногда переводил «милость, мир», потом «милость и мир».
— И тире ещё ставили…
— Да, и так бывало. «Милость — мир, жертву хвалы». Были разные варианты перевода, и они меня всё равно не вполне устраивали. И вдруг я узнаю, спасибо нашим замечательным сотрудникам в Институте, что это место и в древности имело разные варианты, причём содержательные, интересные. При том, что был такой краткий текст и ясно заданный контекст, тем не менее, уже в древности было два варианта: «жертву хвалы» или «жертва хвалы». Было «милость мира», а было «милость, мир». Я был в восторге, потому что это выход из положения. «Милость, мир» через запятую — это здорово! Потому что «милость мира» — это такое искусственное словосочетание, какое-то масло масляное и немножко кентавр. А потом ещё и «жертва хвалы»: то есть мы или приносим жертву хвалы, или провозглашаем от имени всего Народа Божьего, от имени Церкви, что это то, что сейчас совершается и будет совершаться. В таком случае этот возглас — уже не просто ответ на призыв дьякона «Станем строго, станем благоговейно, будем со вниманием святое возношение в мире приносить». Да, мы будем приносить святое возношение, но это возношение и есть дар милости, мира, и это — жертва хвалы. Тогда милость можно связать с даром Отца, мир — с даром Иисуса Христа, а жертва хвалы — это то, что мы сейчас хотим принести как самое главное: мы прославляем нашего Бога в таинстве благодарения, в евхаристии. Эта древняя формула и показалась мне наилучшей. И я только мог пожалеть, что исторически она не сохранилась, что она ушла и господствующее место заняла невнятная и главное — очень бездейственная формула «Милость мира, жертву хваления», которая существует сейчас в церковнославянской версии литургии святого Иоанна. Она как бы потеряла свою соль.
— И свою динамику (от «dynamis» — «силу»), и после этого как бы ни к чему не ведёт.
— В последнем переводе я наконец-то исправил это место. Но я представляю, какая будет реакция, когда эти книжки с последней редакцией перевода начнут распространяться по всей церкви. Многие не знают литургическую традицию и не задумываются, что происходит в этот момент богослужения, привыкли не понимать — и это приносит свои горькие плоды. Если люди долго не понимают чего-то или понимают неправильно, как в случае с «призывать Тебя, Отца» вместо «именовать Тебя Отцом», то со смыслом они это уже не соединяют, хранят бессмысленную форму только потому, что к ней привыкли. И молитва опустошается.
— Здесь дело ещё в том, что существует призрак понимания.
— Призрак понимания — одна из главных проблем современного богослужения. Чтобы избавиться от этого призрака, надо переводить и переводить: церковно, качественно с литературной точки зрения и с точки зрения богословского и духовного смысла. Работа над переводами позволяет убедиться, что богослужебные тексты могут нас учить жизни в вере и молитве. Нужно научиться переводить богослужение, не стилизуясь. Стилизация — ещё одна опасность перевода наряду с неправильным пониманием и некомпетентностью. Так бывает, когда за перевод берутся люди, недостаточно образованные, церковно культурные и стилистически одарённые. Бывают, конечно, случаи, когда начинают переводить независимо от подготовки и дарований, просто потому, что не могут этого не делать — как это было, допустим, в 1930-е годы в общине епископа Феофана (Адаменко).
— Даже в 1920-е?
— Да, но я сейчас говорю специально про 1930-е, когда уже не осталось никаких вариантов, всё было закрыто или уничтожено властью. Он со своими помощниками делал то, что мог, и не прекращал это никогда. Да, эти переводы сейчас использовать уже почти нельзя, но они памятник подвигу настоящего святого человека, который понимал, что нужно Церкви, и делал всё, чтобы ответить на призыв Божий. И поэтому, даже «сдавая в архив» комплекс его переводов, мы остаёмся ему благодарными, чтим его и знаем, что его имя вписано на Небесах.
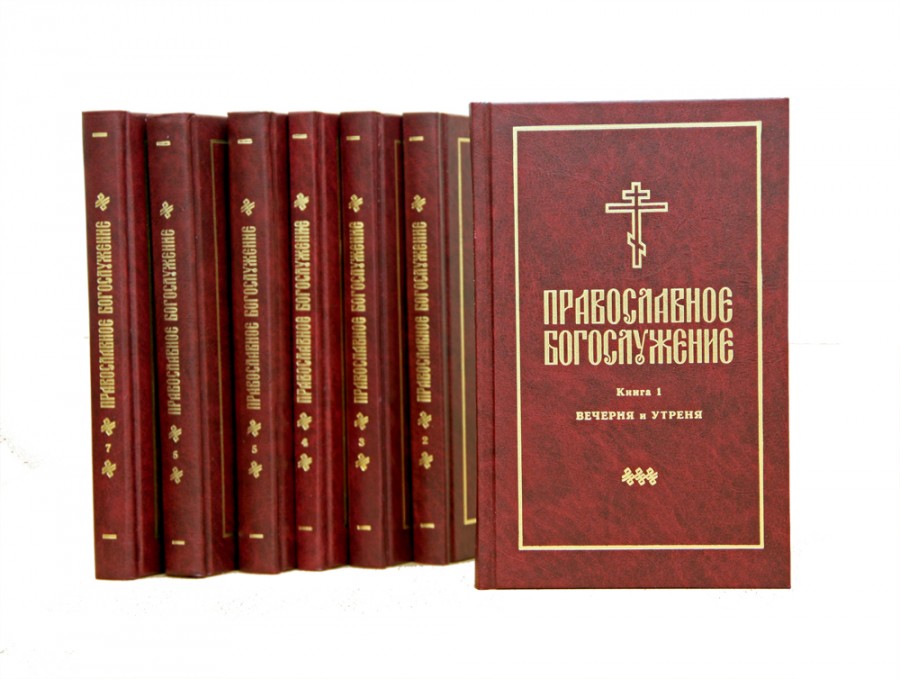
— Сейчас очень распространённый подход к переводу: мы дадим в руки мирянам пособие для благочестивых упражнений, чтобы они лучше понимали происходящее на богослужении. Почему для вас принципиально важно, чтобы перевод был именно богослужебным текстом настоящей молитвы, которая произносится в собрании?
— Просто потому, что молитва Богу — это не домашний факультатив и не официальная церемония, а явление смысла и духа — сама жизнь Церкви, то, ради чего собирается Народ Божий, ради чего мы совершаем таинства. Всякого рода учебные пособия, конечно, тоже имеют право на существование. И до революции издавались замечательные пособия для церковно-приходских школ и для гимназий. Я видел такие на двух языках: вот вам, пожалуйста, по-церковнославянски, а вот по-русски. Не всегда переводы были идеальны, но они были всё-таки достаточно качественными — по таким книжечкам учили детей или людей, только-только приходящих в церковь.
Людям трудно изучать языки, кто будет спорить. Говорят: вы же можете английский выучить — учите и церковнославянский. Но английский изучают те люди, для которых это жизненная необходимость в профессиональном, культурном или ином смысле, в области общения: поездок, переписки и так далее. В церковнославянском же языке у людей нет жизненной необходимости. Я уже не говорю про тех, для кого русский язык не родной, а таких много в Русской церкви. Церковнославянский язык — это замечательное наследие, которое надо сохранить, которое надо изучать, если ты хочешь быть церковно образованным человеком, так же как ты должен знать хотя бы начатки древнегреческого и древнееврейского языков. Если ты образованный человек, окончил семинарию, академию, никак нельзя без того, чтобы ориентироваться в них хотя бы примерно, чтобы ощущать стихию этих языков, чувствовать, чем они отличаются от русского и почему важны для нашей традиции.
Но одно дело — вопрос церковного образования, культуры, а другое — молитва, вера и жизнь церкви. Это должно быть делом всех, есть у человека духовное образование или нет. Чтение пособия ни в коем случае не должно подменять служения на языке, который тебе внятен, который открывает тебе дух и смысл церковной христианской православной жизни.
— В предыдущих редакциях перевода было: «Главы наши пред Господом преклоним». В новой — «Пред Господом наши главы преклоним». Зачем эта перестановка слов?
— Мне очень важно стимулировать действенность молитвы. Это один из таких случаев, где разный порядок слов или побуждает человека к действию, или не побуждает. Это хороший пример, потому что здесь все слова даже на церковнославянском в целом понятны русскому человеку. В славянском «Господеви» нетрудно узнать «Господу», хотя надо понимать, что есть люди, которые этого не знают, так же как не знают, что «паки и паки» — это «снова и снова», или думают, что «миром Господу помолимся» — это «всем миром», а не «в мире», то есть в мирном духе. Таких людей огромное количество — надо это тоже понимать и прояснять перевод даже на самом элементарном уровне. Надо сделать шаг навстречу людям, помня, что у нас последние сто лет чрезвычайная ситуация в церковной жизни: и культура не на высоте, и традиция прервана.
Но в данном случае это погоня за большей адекватностью стиля и, главное, действенностью всего того, что происходит в церкви. Мы должны добиться, чтобы ничто в церкви не говорилось впустую и слово рождало немедленное действие.
— Вы недавно сказали, что прежде всего делаете этот перевод для тех, кто служит, кто находится в алтаре…
— И для соучастия всех людей в молитве. Наши службы несоразмерно длинные, они не соответствуют ритму современной жизни. Люди на богослужении невольно отвлекаются. Даже когда перед их глазами русский текст, и то нужно прилагать большие усилия, чтобы не отключиться, не потеряться в этом огромном пространстве многообразных текстов, с огромным количеством разных вставок, не всегда оправданных.
— Со всей этой византийской образностью и многословием, средневековым «плетением словес».
— Поэтому, чтобы люди понимали, что происходит, так важны надписания перед молитвами в богослужении. Я специально искал, как сделать, чтобы эти надписания были адекватны, потому что они тоже «плывут» в разных рукописях в разные века. Надо, чтобы надписание помогало понять, что в данный момент происходит — это позволяет и при переводе найти главный акцент, что можно по-разному отразить в разных литературных формах. Важно, чтобы сам переводчик понимал, ради чего эта молитва читается — от этого зависит и пунктуация, и синтаксис: что поставить в конец фразы, какое слово, где главное действующее начало данной молитвы или фразы.
Перевод заставляет заниматься самой современной и самой серьёзной литургикой. Мы не меняем чинопоследование — оно есть такое, какое есть, — но мы можем с помощью разных средств выражения как-то очистить текст, сделать его более прозрачным, более целостным, последовательным. Какие-то явные вставки — присутствующие только в славянских вариантах молитвы, но не в греческих текстах — желательно просто убирать, они случайно попали. Что-то я указывал в сносках и убирал из основного текста или оставлял в тексте, но петитом в квадратных скобках.
Что-то приходится комментировать — скажем, не очень хорошо исторически сложившееся чинопоследование исповеди, так как сегодня это маловразумительный конгломерат разных молитв. Пользуясь определённым литургическим инструментарием, исследованиями выдающихся современных литургистов, как правило, можно пояснить для чего там была та или иная молитва. Неверно просто читать механически всё подряд — здесь каждому служащему приходится, ориентируясь в традиции, самому выбирать, что ему сейчас нужно. Мне кажется, такой индивидуальный подход в подготовке к покаянию сейчас принципиален, но на это оказываются не готовы ни священники, ни архиереи. Для них это неимоверная трудность, пастыри не привыкли доверять ни людям, ни себе, чтобы выбрать нужные молитвы, и не могут допустить вариативности, но переводчик должен иногда такую вариативность предлагать.
— Тем более, когда мы имеем дело со «сросшимися» последованиями, где разные слои отражают разную церковную практику.
— И это не всегда удачно сросшиеся слои, разбирать их — огромная литургическая работа, но может быть в этом и удивительное вдохновение. Интерпретатор-переводчик, умышленно уходя от буквальности перевода, иногда обогащает традицию, как бы угадывает в ней какие-то новые обертоны, смыслы, которые очень нужны Церкви.
Тут я могу вспомнить наш диалог с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым о приснодевстве Марии. В славянском языке читаем: «пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию». Во-первых, «пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную…» мы переводим по-русски: «всесвятую, непорочную, преблагословенную, славную нашу Владычицу Богородицу». «Приснодева» — буквально «Всегда-дева», и это соответствует решениям III Вселенского собора: до рождества, в рождестве и после рождества — дева. Но оказалось, что смысл может быть ещё глубже и интереснее. Я очень долго искал, меня не устраивала «Всегда-дева». Одно время я читал так, но каждый раз спотыкался на этом. И я обращался и здесь к Сергею Сергеевичу, и как-то после долгого диалога и размышлений он мне вдруг выдаёт: «А давайте вместо “Всегда-дева” — “Вечнодева”». Я сразу понял, что он имеет в виду, и вспомнил все дискуссии о вечной девственности в начале XX века. Это гениально. Ну, это Сергей Сергеевич! И я, конечно, тут же это с радостью принял.
Есть некоторый духовный смысл, и догмат существует ради духовного смысла, а не ради просто рационально-житейского объяснения. Это, по-моему, прекрасный пример, как перевод может наращивать смыслы и работать на глубину! Это такие нюансы, которые очень редко кто замечает. Это и не должно быть чем-то кричащим, это не должно быть на первом месте. Но это то, без чего хорошего перевода, на мой взгляд, нет.
Хороший перевод помогает в наше время подвести итог двухтысячелетнему периоду развития «закона молитвы» Церкви, прежде чем мы начнём новое творчество, написание новых молитв, новых чинов, которые больше соответствовали бы условиям жизни церкви в постконстантиновский период. Перевод позволяет понять, что из этого наследия двух тысячелетий сегодня работает, что нужно сохранить, а что можно спокойно отправить в архив. Не уничтожить, забыть или проклясть, а отправить во второй слой памяти уже не первостепенной важности. Можно опускать на литургии какие-то диалоги, второстепенные фразы и телодвижения, которые сейчас заполняют собой чинопоследование и уводят человека от главного, чего быть не должно.
— Интересно, что в начале XX века мы вплотную к этому подошли. Есть киевский перевод протоиерея Сергия Петровского 1908 года. Это именно перевод на русский язык литургии Иоанна Златоуста — не для воскресных школ, не просто «изъяснение на русском наречии», а настоящее академическое издание, допущенное цензором, протоиереем Александром Глаголевым. Он, конечно, скорее экзегетический, комментирующий и всё-таки издан не как служебник. Однако такие попытки свидетельствуют о том, что к дискуссии о богослужебном языке на Соборе 1917 года Русская церковь подошла подготовленной.
— Был и очень культурный нахимовский перевод — он был более сосредоточен на литературной форме, можно сказать, «нелитургичный», но по смыслу он был очень неплох. Эти примеры не всем были известны, но всё-таки некоторые члены Собора знали, что уже есть на что опираться, и понимали, что должно появиться именно русское богослужение, а не просто, действительно, «изъяснение на русском наречии». И сейчас нужно идти в этом направлении!
Впервые опубликовано в сокращении в журнале «Вестник СФИ» № 36.